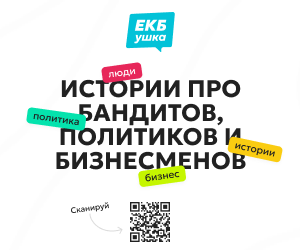Бурлачить на Чусовую шли преимущественно жители глухих деревень, почти все неграмотные и в большинстве своем наивные, как дети… Большая часть бурлаков вместо «ц» говорила «ч» и потому их говор резко отличался от местного. По умственному развитию, по наружному виду и даже по одежде, бурлаки резко отличались от заводского населения и от жителей чусовских селений. По простоте и наивности чусовской бурлак представляет собой взрослого ребенка, его легко можно узнать по наружному виду и по походке. Неумытый, с всклоченной бородой, в теплой меховой шапке, обязательно в лаптях, идет [он] по середине дороги, переваливаясь с ноги на ногу. Костюм бурлака весь доморощенный, базарщины [прим 1] на нем нет. Обыкновенно, поверх одежды толстого холста одет фартук особенной формы, обязательно окрашенный в синий цвет. Закрывая спереди все тело, фартук продолжается на плечи и на спину до пояса, на спине он остается свободным, не привязанным ни с боков, ни снизу. Конечно не все, но многие, бурлаки одеты в такие синие фартуки, резко бросающиеся в глаза. Завидев синие фартуки на пристанях, местные жители говорили: «Вон уже синички прилетели, видно скоро будет лето»…

Река Чусовая. Билимбаевский завод, 90-е годы XIX века. Фотография В.Л. Метенкова
Жители чусовских селений смотрели на бурлаков «свысока», считая их ниже себя по развитости, и редко вступали с ними в какие-либо сношения. В свою очередь, и бурлаки не заводили знакомств с местными жителями, держались всегда отдельной группой, или, вернее сказать, отдельным табуном и крепко стояли друг за друга [прим 2].
…Образовавшаяся артель устраивалась на одной квартире и была буквально неразлучна. Куда один, туда и вся артель. Зайдет один в лавку купить табачку, туда лезет вся артель, как бы там не было тесно, объясняя свой натиск тем, что они одного десятка. Вздумалось одному из артели купить на заводском складе чугунную сковородку, идет покупатель в заводской склад для выбора товара и весь десяток за ним, а в десятке, нередко, бывало человек двадцать. Зайдут все и стоят, а на просьбу маганизера [прим 3], всем не входить – ноль внимания. За выбранную сковородку по талону маганизера надо уплатить в кассу 20 копеек. Касса в маленькой комнате при конторе. Здесь как раз идет выдача полумесячного заработка местным рабочим и потому народу много. Тесно и жарко. Но вот протискивается к кассиру бурлак с талоном, чтобы отдать 20 копеек за сковородку и за ним, дружно работая локтями, лезут к кассиру все члены десятка.
Несмотря на такую сплоченность и, по-видимому, большую дружбу они, однако, один другому не доверяли и зорко следили, как бы товарищ не обсчитал на еде, не съел бы и не выпил больше другого. Обращалось внимание на размер ложки, на величину куска хлеба, все это должно быть одного размера. Хлебать из чашки все должны с одинаковой скоростью. Хочется, не хочется, есть или пить, бурлак старается не отставать от товарищей из опасения, как бы его пайком не воспользовался другой. Вместо чая бурлаки пили брагу [прим 4]. Этот напиток имел вид телячьего пойла серого цвета, был довольно питательный и немного охмеляющий. Подогретый он сильнее охмеляет человека и более приятен на вкус. Пьют его не рюмочками и не стаканами, а большими чашками или кружками, вмещающими бутылки по две жидкости. На артель в 10 человек браги требовалось каждый день ведра четыре и даже более. Напившись утром теплой браги, бурлаки и сыты и веселы, не надо им ни чаю, ни хлеба. Поблагодушествуют под окном на завалинке или просто на полянке перед домом, поболтают, поострят, как умеют, и отправляются гулять, обязательно всей артелью.
Вот идут они толпой по улице в праздничный день, навстречу им прилично одетые местные жители. Один из бурлаков старается держаться поближе к местной публике и, поравнявшись [с ней, вдруг неожиданно] топнет ногой в грязь или в лужу, обрызгивая костюмы встречной публике и победоносно присоединяется к товарищам. А те все в голос хохочут над остроумной выходкой товарища.
Бурлаков, как малых детей, интересуют всякие пустяки. Завидев раскрашенные ставни, у какого либо дома, вся толпа останавливается и подробно разбирает, какая тут краска и как хитро выведены узоры. Но вот диковина – на окне между рам стоят раскрашенные глиняные куклы. Тут уж обязательно остановка, всевозможные комментарии и остроты по поводу замеченных кукол. Слышится такой разговор: «Лико (смотри). Лико, батя (товарищ), как есть наш писарь, а это лико, батя, ровно писарьша и лопатина (одежда) такая ж» [прим 5].
…В [Билимбаевском] заводе, на площади перед конторой, на высоком пьедестале, стоит чугунная статуя – бюст женщины [прим 6]. Эта статуя была отлита на том же заводе 200 лет тому назад и сохраняется как памятник первого формовочного литья. Большая голова, раскрытый рот, чуть не до ушей, вся фигура статуи напоминает скорей какого-то идола. Для бурлаков это действительно идол, они называют его «статуем» и, во время пребывания бурлаков на пристани, каждый день около «статуи» собиралась масса синих фартуков.
Каждый бурлак, молодой и старый, почитал священным долгом сделать несколько визитов к «статую». Здесь можно было услышать бесконечные остроты и шутки. Новичка приводили сюда товарищи и обязательно заставляли кланяться до земли и целовать «статую» в открытые уста. Нередко случалось, что в момент поцелуя веселый товарищ, потехи ради, вдруг неожиданно толкнет голову товарища, намеревавшегося приложиться к чугунным губам «статуи». Раздается отчаянный крик окровянившегося новичка и дружный хохот собравшейся здесь публики. Бывали случаи, что потеха эта стоила злополучному новичку нескольких зубов. Может быть, когда-нибудь поклонение и целование статуи была пустая забава, но позднее это уже обратилось в предрассудок, и сделалось обязательным для каждого новичка. Установилось мнение, что бурлаку, не поклонившемуся «статую», угрожает в пути несчастие и потому, бурлаки, как люди суеверные, охотно подчинялись советам своих товарищей, рискуя зубами и губами, целовали идола. Случаи несчастья в пути с бурлаками-новичками, что можно было бы объяснить неопытностью новичка, суеверные люди толковали не иначе, как отказ поклониться «статую».
Гилев Ф.В. Чусовские бурлаки (фрагмент) / Веси №1-2, 2011 С.21,22.
Литературная обработка текста и примечания Н.В. Акифьевой
Прим:
1. Базарщина» – одежда, купленная в лавке или магазине.
2. Культура крестьян, по сути своей, была патриархальной. По их мнению, на заводах живут «одни разбойники, там нет ничего хорошего, только копоть и дым». Мастеровые со своей стороны относились к деревенским с презрением. Крестьянский труд казался им менее важным и более легким, чем труд рабочих.
3. Маганийзер – тоже, что и продавец.
4. Уральскую брагу готовили из овсяной муки с солодом. Овсяный солод замешивали в виде густой кашицы и ставили в вольный жар печи для упаривания до желто-оранжевого цвета. Вечером процеживали и «наквашивали хмельным мелом» (толченым хмелем) или шишками хмеля по несколько горстей на ведро. К ночи сосуд с брагой ставили на печку. Утром напиток был готов к употреблению. Среди сторонников браги был писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк, считавший, что «достоинства браги перед водкой или фабричным пивом неисчислимы: она питательна, здорова, дешева». «Безусловную питательность браги» отмечал и другой уральский писатель, знаток крестьянского быта, А. Вологдин.
5. В Билимбаевском заводе бурлаков так и называли – «батями», а в Шайтанском заводе местные жители называли бурлаков «посохой», т.е. человек «от сохи» или крестьянин.
6. Имеется в виду Билимбаевский памятник (возможно, первый памятник на горнозаводском Урале) – чугунный столб оригинальной формы в виде монумента, оканчивающийся вверху головой с двумя лицами как у Януса, поставленный в «незапамятные времена» на площади против заводской конторы. Очевидцы утверждали, что еще в середине XIX века на плите, составляющей подножие тумбы, можно было прочитать надпись о введении в действие Билимбаевского завода. История памятника тесно связана с шутовской традицией, существовавшей у здешних бурлаков едва ли не с основания завода. Обычай этот заключался в том, что каждый прибывший для сплава каравана новичок посвящался здесь в звание бурлака. Церемония посвящения была незатейлива и больше походила на языческий обряд. Толпа бурлаков, принеся предварительно, как и приличествует случаю, обильную жертву Бахусу, заманивала новичков к чугунному столбику и требовала поцеловать «чугунную бабу». Тумба эта была примечательна еще и тем, что в былые времена она играла роль идола для «инородцев» Нанимаясь на сплав, они клали в открытые пасти идола сухари, прося «чугунную бабушку» спасти их от смерти в воде. Оригинальный памятник привлек внимание министра земледелия и государственных имуществ Алексея Сергеевича Ермолова, посетившего Билимбаевский завод осенью 1895 года. Высокому гостю объяснили: «Это памятник 1-го выпуска чугуна». Петр Александрович Вологдин, вспоминая приезд министра, писал: «Две такие же точно тумбы, очевидно, отлитые по одной модели, можно видеть в Петербурге, у ворот дома графа Строганова (Невский, у Полицейского моста), где они защищают цоколь дома от порчи осями экипажей. В Билимбае же тумба-идол служит ныне для привязи лошадей приезжающих крестьян».
Источник: доцент, к.и.н. Нина Валентиновна Акифьева. Pассказ Ф.В. Гилева «Чусовские бурлаки» (сокращенный вариант) был напечатан в журнале «Веси», № 1-2, 3, 4 за 2011 год.