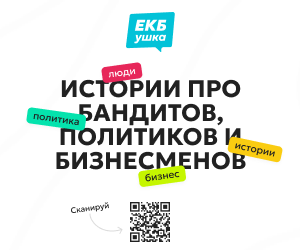В нашем сознании исторический символ обычно ассоциируется с событиями, произошедшими в былые времена. Поэтому одной из причин позиционирования бренда такого типа является обращение к памяти и национальному сознанию, а привязка ко времени есть не что иное, как претензия на традицию.
Однако, как показывает практика, выбор исторического имени дело не самое простое, хотя бы и потому, что общеизвестных уральских брендов не так уж и много. В первую очередь, это бренды территорий: Уральские горы, «Европа-Азия», река Чусовая, город Верхотурье...
Но далеко не каждому населенному пункту достается наследство в виде географического бренда (наш город – это исключение). И вот здесь на первый план выходят бренды-имена или точнее – мифологизированные персоналии. В отличие от территориальных брендов, сформированных на основе уникальных географических и культурно-исторических объектов, это скорее бренды символы.
Сегодня таким символом для Свердловской области и для Первоуральска, в частности, стал бренд «Демидов». Несомненно, что использование в названии фирмы, фонда или продукта фамилии Демидов следует признать успешным маркетинговым ходом. Это и надежда облагородить «продукт», и попытка повлиять на ассоциативное мышление с расчетом сыграть на узнаваемости. А, по сути, здесь проявляется важнейший принцип воздействия рекламы – подмена одного объекта другим. Используя исторические бренды, компании заставляют историю работать на себя.
Причин особой популярности бренда «Демидов» несколько. Во-первых, это высокая степень известности (пусть даже и негативной), отшлифованная многими талантливыми писателями, именитыми историками и известными режиссерами. Во-вторых, это большое количество научных и общественных институтов, вносящих сегодня свой вклад в пропаганду фамилии. В-третьих, это поддержка бренда официальной властью Свердловской области. Именно потому использование на Среднем Урале торговой марки «Демидов», в первую очередь, связано с позиционированием своего товара как товара марки «премиум». С другой стороны, бренд «Демидов» абсолютно всеяден. Под таким именем производятся все мыслимые и немыслимые товары и услуги – от алкогольных продуктов до престижных общенациональных премий.
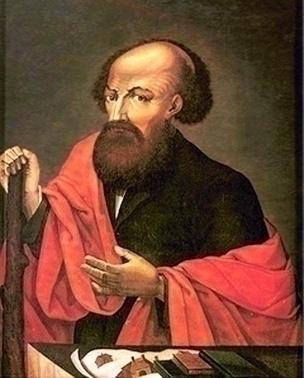
Никита Демидович Антюфеев (Демидов), н. XVIII в, художник Уткин

Барон Григорий Дмитриевич Строганов, н. XVIII в, художник Р.Никитин
В Первоуральском городском округе достойную альтернативу бренду «Демидов» мог бы составить другой общенациональный бред – «Строганов». С морально-этической точки зрения такой выбор был бы, на наш взгляд, более честен. Сегодня бренд «Строганов» как-то используется в Петербурге и Перми, но со Свердловской областью Строгановых связывают редко. Хотя, по нашему мнению, они заслужили памяти потомков не меньше Демидовых.
Не секрет, что свой капитал Строгановы, Демидовы, Яковлевы и другие уральские заводчики создавали далеко не праведным путем. «Первые заводчики, – писал Д.Н. Мамин-Сибиряк, – были люди слишком энергичные и не стесняли себя в выборе средств при преследовании своих целей». Тем более, что сами по себе капиталы мало что стоят для истории. Ведь признание нации зарабатывается не титулами и не суммой на банковском счету, а нравственным примером служения обществу. И потомки Строгановых (в отличие от потомков Демидовых) это осознавали и такой пример показывали. Поэтому-то и народная известность у Строгановых другая.
Чтобы понять разницу во взаимоотношениях между владельцами и их крепостными, можно сравнить два письма, написанные примерно в одно и то же время.
Первое – написано в феврале 1786 года владельцем Билимбаевского завода графом Александром Сергеевичем Строгановым управляющему имением Сергею Климову. «Во всех твоих предприятиях и расположениях помни, что ты сердцу моему ни спокойствия, ни удовольствия сладкого принести не можешь, когда хотя и до миллионов распространил бы мои доходы, но судьбу бы человеческую через то мог отягчить. И в таком случае позволяю тебе предпочесть моим выгодам выгоды тех людей, коим я должен и хочу быть более отцом, нежели господином…».
Второе – написано в апреле 1790 года бывшим владельцем Шайтанского завода Никитой Никитичем Демидовым приказчикам Кыштымского и Каслинского заводов Блинову и Серебрякову. «Цыц, каналья, раскольник! Корень ваш искореню; ибо у меня вы все равны, кроме справедливых и верных заслуг правды и усердия к господскому. Не о раскольничестве проклятом, и не о жирах и о неправде думать, но с неусыпностью трудиться о господском добре и о больших выгодах и переделах…».

Акинфий Никитич Демидов, до 1745 г, художник Г-Х. Грот

Граф Александр Сергеевич Строганов, 1812 г, художник А.Варнек
Надо сказать, что взаимоотношения с подданными внутри Строгановского имения разительно отличались от уклада большинства крепостных хозяйств России. В то время большинство помещичьих имений представляли собой феодально-крепостнические хозяйства с соответствующим характером взаимоотношений, тогда как в пермском майорате Софьи Владимировны Строгановой существовали: трудовое законодательство, судебный устав, крестьянская «ссудная касса», благоустроенные школы и больницы. И что замечательно – графиня сумела достигнуть таких результатов без помощи иностранцев. Как правило, вся администрация ее имения состояла из местных же крепостных, которые получали образование в собственных (графских) учебных заведениях в Петербурге, Марьинском и Ильинском.
«Демидовы же, – по замечанию пермского писателя Алексея Иванова, – как это и бывает у нуворишей, презирали ту среду, из которой сами недавно вышли. Своего крепостного Артамонова, мастера-самородка и изобретателя велосипеда, Демидов с издевкой занес в реестр под фамилией «Жопинский». Ради справедливости, заметим, что писатель Иванов, неточен в деталях. Во-первых, Артамонов, конечно же, не является изобретателем велосипеда (о Артамонове вообще, мало, что известно), а во-вторых, имя Жепинский владелец завода дал не мифическому Артамонову, а тагильскому мастеровому Кузнецову за его музыкальные дрожки, (сейчас находятся в Эрмитаже).
Замечательный уральский историк Наркиз Константинович Чупин отмечал: «В то время как демидовские воспитанники стрелялись или сходили с ума, крепостные питомцы германских академий и университетов у Строгановых ставились в такое положение, что приложением своих познаний приносили пользу владельцам и, оставаясь, в свободном уже состоянии, должностными лицами, сумели заслужить общее уважение, не исключая и управляемых крестьян».
Российский историк культуры и журналист Нил Петрович Колюпанов так оценивал строгановское хозяйство: «Крепостное право там было относительно мягко; порядок в управлении заведен был удовлетворительный, и крестьяне достигли некоторого экономического довольства, несмотря на употребление их в заводских работах и на соляных промыслах…». Так, строгановские мастеровые Добрянского завода, требуя отстранения наиболее ненавистных представителей администрации, писали своему владельцу графу Сергею Григорьевичу Строганову: «Если уволены они (администрация – авт.) от должностей не будут, в таком случае доведут нас, в пример людей гг. Всеволожских, и Ваше Сиятельство к ущербам». Такая ссылка на еще более тяжелое положение людей соседней вотчины, опровергающая афоризм «хорошо там, где нас нет», по мнению историка В. А. Шкерина, «случай для народных прошений редчайший». Но не единственный. Так, накануне отмены крепостной зависимости управляющий Билимбаевским округом Петр Сосипатрович Шарин в письме к Василию Алексеевичу Волегову сообщал, что у него «люди совершенно спокойны, ибо они знают, что… на соседних заводах (Ревдинском, Шайтанском, Верх-Нейвинском, Уткинском – авт.) скорее хуже, чем лучше».

Никита Акинфиевич Демидов, пр.1770 г, художник Л.Токке

Граф Павел Александрович Строганов, 1819 г, художник Дж. Доу
В 1891 году Сергей Александрович Строганов купил Уткинский завод, принадлежавший Демидову. На это событие «Екатеринбургская неделя» отреагировала таким сообщением: «Мастеровые бесконечно рады, что завод перешел в руки одного из капитальнейших уральских заводовладельцев и что все будут с работой и хлебом». Чувства мастеровых можно понять, ведь, по словам, Леонтия Евдокимовича Воеводина: «Кроме всех благ, предоставляемых обыкновенно на уральских заводах населению, у Строганова выдаются еще пенсии и не только служащим, что встречается и в других округах, но и заслуженным рабочим. Оказывается всевозможное содействие к насаждению в заводах потребительских лавок. Устраиваются театры для любительских спектаклей; поощряются клубные собрания и, наконец, даются щедрые пособия к образованию детей служащих в средних и высших учебных заведениях».
Отличало Строгановых и отношение к природным богатствам края. Дмитрий Иванович Менделеев, посетив летом 1899 года Билимбаевский округ Сергея Александровича Строганова, писал: «…Чуть не на каждом шагу видишь леса холеные и чистые, чередовые вырубки, дороги по ним, канавы, просеки на версты, порядок, точно в иное, не русское царство попал».
А вот, что писала «Екатеринбургская неделя» о Демидовых: «Знакомы также наши читатели и со способом эксплуатации лесов владельцем Суксунских заводов г. Демидовым, который за 2-3 года своего хозяйствования на этих заводах распродал разным скупщикам вековых лесов дачи на десятки тысяч рублей. Хотя эта сумма могла бы быть лишь задатком к действительной стоимости расхищенного леса».
Впрочем, все приведенные примеры – это лишь частности. Гораздо важнее для нас участие того и другого рода в судьбе Отечества. И здесь Строгановы показали превосходный образец служения Родине – «от Куликова поля до Цусимы». Князь Борис Владимирович Голицын после Бородинского сражения сообщал своей сестре Софье Владимировне Строгановой: «Строганов пользуется небывалой славой в войсках». А Александр Сергеевич Пушкин в одной из строф главы VI «Евгений Онегин» (не вошедшей в окончательный текст романа) воспел П.А. Строганова и его единственного сына Александра, погибшего почти на глазах родителя в битве при Краоне:

Прокопий Акинфиевич Демидов, 1773 г, художник Д.Г.Левицкий
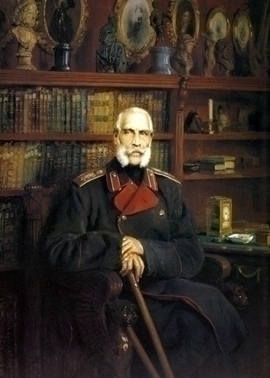
Граф Сергей Григорьевич Строганов, 1882 г, художник К.Маковский
А что Демидовы? Ведь известно, что и они «не жалели живота своего». Во всяком случае, так говорят очень многие современные исследователи. И обязательно приводят в пример Николая Никитича Демидова. Принято считать, что в 1812 году он создал на свои средства «Демидовский» полк, который участвовал в Бородинском сражении. Однако у некоторых русских историков на этот счет было другое мнение. Так А. К. Кабанов в одном из томов «Отечественная война и русское общество», изданном к столетию Бородинского сражения, замечал: «Тайный советник Демидов и камергер князь Гагарин просили дозволить каждому из них обмундировать полк; однако они об этом не позаботились».
Зато как много говорят сейчас о «фамильной благотворительности» Демидовых. Но и здесь не все гладко. Д. Н. Мамин-Сибиряк отмечал: «Если деньги и летели из демидовских карманов, то отнюдь не на заводы. Пятидесятитысячное население, доставляющее Демидову миллионные доходы, ничем не пользовалось от него – это факт!..».
Подобных примеров можно привести еще множество, хотя вряд ли они смогут изменить устоявшиеся, сцементированное годами мнение: мы говорим «Демидовы», а подразумеваем уральский металл; говорим уральский металл, а подразумеваем «Демидовы». Это как китайский шелк, французский коньяк или швейцарские часы.
Источник: доцент, к.и.н. Нина Валентиновна Акифьева.
Акифьева Н. В. В тени великих брендов / МЫ, август 2008. С. 8-11