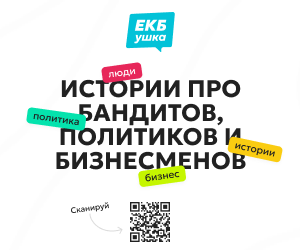«Когда б вы знали, из какого сора…» – так, пожалуй, можно начать рассказ о «шайтанском заводском атамане», «защитнике всех униженных и обездоленных» – Андрее Степановиче Плотникове, больше известном под именами «Атаман Золотой» и «Рыжанка».
До шайтанских событий 1771 года об атамане Рыжанке и его товарищах было известно немного. Священник Петропавловской церкви Александр Топорков писал: «Осенью 1767 года Андрей Плотников посажен был под караул, но через день бежал из Кленовской крепости. Вскоре он познакомился с беглецом по прозвищу «Блоха», который написал за 50 копеек подложный паспорт, с коим Плотников был принят на заводской караван. В Рыбной слободе он сошелся с шайкой разбойников из 10 человек, купил с ними лодку и отправился по реке Волге для разбоя…». Атаманом шайки был тогда некий Иван Прибытов. Во время очередного грабежа атаман силой захватил служанку и увел ее в кабак, намериваясь изнасиловать. Рыжанка не допустил этого, произошла стычка, старый атаман отправился на дно кормить рыб. Тут же, на берегу Волги, прошли открытые демократические выборы. Андрей Плотников стал атаманом.

Атаман. В. И. Суриков, 1906.
На реке Чусовой молодой атаман (было ему в ту пору 25 лет) появился в конце 1769 года. А вскоре его начали поминать уже повсеместно, и не ясно было – это одна шайка или разношерстные бандитские ватаги прячутся за именем «авторитетного» разбойника. По сведениям Александра Топоркова: «В деревеньке Волеговой ограбили они дом богатого крестьянина, а жителей означенной деревни за сопротивление мучили и стегали плетьми. На той же реке ограбили плывших на судне сержанта Екатеринбургской роты с приказчиком, взявши у них денег 300 рублей и много разного платья. Затем напали на караван заводчика Алексея Турчанинова, где взяли много денег и разного имущества. Потом остановили нижнетагильское судно Никиты Демидова, взявши на нем денег 265 рублей 65 копеек и разные вещи, а приказчика и служащих каравана за утайку денег стегали плетьми и стращали зарезать. На той же реке ограбили коломенку графа Воронцова, на коей ехали купцы, взяли у них денег 450 руб. и разного товара на 4606 рублей. В неизвестной деревне, расположенной на реке Чусовой, ограбили дом богатой старухи, которую пытали с целью узнать, где хранятся ее деньги. Ей связали руки и ноги и, подвесив на жерди, жгли ее на огне. В другой деревне, по указанию местного, целовальника, ограбили дом богатого крестьянина, взявши денег 150 рублнй и много разных пожитков, а хозяина дома, за сопротивление и утайку денег, били и жгли на огне. В той же деревне ограбили и другие обывательские дома, из коих один сожгли. Здесь разбойники, услышав о посланной для поимки их сыскной команде, разделились на партии и разошлись по разным местам».
Для Рыжанка таким местом стал Шайтанский завод Ширяевых (сегодня – город Первоуральск). Гороховские купцы Ефим и Сергей Ширяевы были потомственными винокурами. Но после того как их сестра Софья стала женой Никиты Никитича Демидова (младшего) «купили» они у свояка Шайтанские заводы и больше никаких купеческих промыслов не имели, а были заняты заводскими делами: Сергей – сбытом, а Ефим – производством. Свою профессиональную несостоятельность новоявленные фабриканты компенсировали жестокостью, создав на заводах атмосферу страха и безысходности. Жизнь обитателей поселка, и до этого нелегкая, после перехода заводов к Ширяевым стала еще тяжелей. «Ефим Ширяев был человек развратный и весьма жестокосердный, – писал Топорков. Посещая заводские работы, он имел обыкновение носить при себе трость с костяным набалдашником, со вставленным железным прутом, и этой палкой без пощады бил своих несчастных рабов за всякий маловажный проступок. Увлекаясь животными наклонностями, не зная никакой нравственной узды, развратный помещик, по рассказам старожилов, совершал такие дела, о коих срамно не токмо реши, но и помыслити…».
Наступила весна 1771 года, и заводские окрестности наполнились тревожным ожиданием. То там, то здесь видели в лесах неизвестных людей, и все чаще стали приходить вести о грабежах и разбойных нападениях. «Причем, если в прежние годы от разбоев страдало, в первую очередь, крестьянство, – писал историк Николай Корепанов, – то теперь разбойников интересовали другие люди, ибо знали они, кто хорошо живет в этом мире и за чей счет. И видел всякий – это не производственные конфликты и не тихое возмущение приписных, а дикая, слепая разрушительная сила, которую раньше связывали лишь с башкирами, и которая ныне созрела на самих заводах».
Пасху 1771 года Рыжанка провел в Шайтанском заводе. Здесь он познакомился с конторщиком Иваном Протопоповым, заводским надзирателем Иваном Нарбутовских и другими жителями. Новые знакомые в разговорах с ним часто жаловались на владельца завода, как «на человека злого, обременяющего работников непосильными работами и в высшей степени безнравственного, говоря, что вечно бы молили Бога за того человека, который бы решился убить Ширяева». Рыжанко «согласился выполнить злодейский замысел» и дал слово вернуться в Шайтанку тем же летом.
О подробностях чрезвычайного происшествия рассказал Александр Топорков. Ночью с 8 на 9 июня 1771 года в Шайтанке царствовала мертвая тишина. Церковный сторож Иван Рукавишников, отбивая на колокольне полночь, заметил около церкви на краю леса каких-то людей, которые, встав на колени лицом к церкви, молились, причем один из них читал по книжке молитву. Это были Рыжанка и его товарищи-разбойники: Никифор Лисьих, Дионисий Кочнев, есаул Мясников и жители Шайтанского завода, Иван Некишев, Иван Бисеров, Федот Бажуков, Аверьян Шишмарев, Василий Карпов, а также крестьяне деревни Талицы, братья Филипп, Алексей и Пахом Балдины. Схватка была короткой. Взятые врасплох и объятые ужасом слуги заводовладельца пали на колени перед атаманом и просили помиловать их. Рыжанка обратился к собравшимся жителям: «Нет ли у кого обид на хозяина?». Мастеровые промолчали, но заводчика это не спасло. Заводской надзиратель Нарбутовских, видя, что Рыжанка уже готов пощадить Ширяева, закричал: «Бейте, режьте, рубите, жгите его, не оставляйте живым!» Рыжанка, как собаку, стреляет Ефима Ширяева из пистолета, двое разбойников разряжают в него свои ружья, а двое других в безжизненное уже тело «руками две стрелы с железными наконечниками в утробу затолкнули до половины стрел». Атаман, сняв шапку, и встав перед жертвой на колени, поклонился до земли и произнес: «Прости меня, Христа ради, Ефим Алексеевич»! Затем разбойники мечут собравшемуся народу деньги (потом посчитали – 400 рублей!), сахар, пряники и, загрузив на подводы заводскую казну, хозяйские драгоценности (на сумму 5261 рубль 10 копеек), собрав ружья, пистолеты, порох, свинец, кортики, уходят.
Ничего подобного на уральских заводах никогда раньше не случалось, лишь однажды в 1746 году лихие люди разорили Рождественский завод в Пермском крае. И вот дождались, пришла беда, откуда не ждали, всего в двух шагах от Екатеринбурга разбойники захватывают завод, жгут конторские бумаги, избивают приказчиков и убивают владельца.
20 июня полковник Бибиков послал главу Екатеринбургской артиллерии штык-юнкера Михаила Медведчикова с командой на Исетское озеро. Там, по некоторым сведениям, в лесу около Черной речки и горы Толстого Кряжа, располагался разбойничий стан Рыжанка. Но битвы не получилось. «Медведчиков пошарил в лесах на Шайтанке и Ревде, нашарил часть награбленного имущества и укрылся на Билимбаихе». 23 июня повезло команде прапорщика Кукарина. В деревню, где солдаты расположились на ночлег, забрел из леса подозрительный мужик купить хлеба. Разбойника схватили и заставили показать место ночевки шайки. В ходе кратковременной перестрелки один разбойник погиб, другие разбежались, а раненый Рыжанка, известный в народе под именем «Атаман Золотой», попал в плен. Атамана под конвоем из 15 человек доставили в Екатеринбург. Вскоре были схвачены и другие разбойники, а также местные жители, принимавшие участие в разбойном нападении.
В Шайтанском заводе наступило время расплаты. В пяти местах селения в землю были врыты столбы и расставлены солдаты, за которыми толпились все жители Шайтанского завода, а также крестьяне Сысертского, Ревдинского, Невьянского, Уткинского Демидова и Уткинского Ягужинского заводов. В 9 часов утра были привезены осужденные, за исключением Максима Чеканова, которого смерть избавила от наказания. После прочтения приговора суда преступников привязывали к столбу по очереди, каждому назначено было по 125 ударов кнутом. Экзекуция продолжалась до тех пор, пока не прекращались стоны, и жертва не впадала в бесчувственное состояние. Тогда осужденного приводили в сознание и истязания продолжались. После казни преступников отнесли в особый дом, где Пахом Балдин умер. Остальным преступникам вырвали ноздри и поставили «узаконенные знаки» на щеках и на лбу. Полумертвых их погрузили на телеги и отправили в далекий Нерченский край «в каторжные работы, навечно». Всего по делу Рыжанка было наказано кнутом больше 100 человек. Труп же мертвого разбойника висел у пыточного столба еще целые сутки: «Сей злодей, разбойник и изверг рода человеческого выставлен для народного позорища», а затем зарыт в землю в лесу. Еще 76 жителей Шайтанского завода, которые во время убийства и грабежа, не участвуя в них, находились у ворот господского дома, «за незащищение господина своего, высечены были плетьми и оставлены по-прежнему при заводе».
О дальнейшей судьбе атамана нам ничего не известно. Деяния же его были надолго сохранены в народной памяти, воспеты в песнях, «тайных сказах» и легендах. Павел Петрович Бажов вспоминал, как в детстве, в Сысерти, затаив дыхание, вместе с другими ребятишками слушал он «Тайный сказ про Атамана Золотого». Народный, эпос, можно сказать, боготворил атамана, наделял его сказочной силой и бессмертием, делал из простого разбойника героя почти равного святому:
«Хорошо знаю, что не казнили Золотого, ловили, ловили, а словить не могли. Да и то сказать, как тут словишь, когда кольцо у него чудесное было. Совсем уж догонять стали, двадцать человек за ним гнались, а атаман к горе их привел и повернул вниз камень (на перстне). Сверкнул камень. Гора раскрылась, и пропал атаман. А в горе той девица-красавица золото стережет, и оружия там много понакидано. Туда и Омельян Иванович к атаману приходил, вместе воевали потом. А что казнили Золотого и со всех заводов на казнь смотреть гоняли – то сказки. Другого казнили, не Золотого» (Бирюков В. П. Дореволюционный фольклор на Урале).
У Бажова была мечта написать историю первых Демидовых. Также мечтал он написать историческую трилогию «Предгрозье», первой частью которой должна была стать повесть о разбойнике Рыжанке. Писатель К. В. Боголюбов вспоминал, что Павел Петрович говорил с сожалением: «Надо бы написать о Рыжанке, да вот руки никак не доходят. Никак не соберусь...» Кстати, сам Боголюбов этот сюжет использовал, издав в 1955 году повесть «Атаман Золотой». О Золотом атамане Боголюбов упомянул и в повести «Связанные крылья», повествующей о трагической судьбе уральского умельца Евдокима Пименовича Бобылева.
Почти 250 лет отделяют нас от тех трагических событий. За это время несколько раз трансформировалось государство, перерождалась идеология, менялось содержание школьных учебников. Но неизменным оставался интерес общества к личности «благородного разбойника». Собственно удивляться здесь нечему, когда люди переставали верить власти, они нередко начинали искать покровителей среди преступников и даже получали у них помощь и защиту. Такие герои оставались в народной памяти и после смерти: былины, легенды, сказания воспевали благородных разбойников и сохраняли их имена «на веки вечные». Отчего же во все времена в народе столь востребован образ «благородного разбойника»? Не потому ли, что он бросает вызов несправедливой системе?
Автор: Н. В. АКИФЬЕВА ©