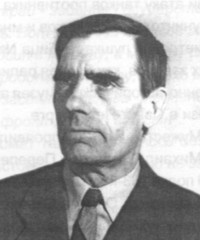Звание почетного гражданина присвоено в мае 1995 г.
О Николае Спиридоновиче говорили и писали много за те 40 с лишним лет, что он живет в Первоуральске. Известностью его фамилия не обойдена, иначе и быть не могло: ведь бывший фронтовой старшина Третьяков — полный кавалер солдатского ордена Славы, а это без натяжки можно приравнивать к званию Героя Советского Союза, самому высокому, особенно для участников Великой Отечественной войны, которым высокие звания эти доставались ценой собственных пота и крови, а нередко и самой жизни.
Родом от корня вятских землепашцев, Николай Третьяков в молодые годы оказался в шахтерском городке Анжеро-Судженске Кемеровской области. Ровно за год до начала войны он был призван на действительную военную службу. Здесь, в Прибалтике, и получил жестокое боевое крещение, сдерживая в составе своей артиллерийской части первоначальный натиск гитлеровцев на западные, приграничные наши рубежи. Отсюда, через всевозможные кульбиты солдатской судьбы, и пролегла его далеко не прямая дорога до самой столицы фашистского рейха. Как бы там ни было, а фронтовик фронтовику — рознь, потому что не каждый был подвержен ежедневной смертельной опасности: штабные писаря, повара, каптенармусы и иже с ними. Поэтому те из участников войны, кто по-настоящему нюхал порох, познал в непрерывных боях, почем фунт солдатского лиха на передовой, особенно ценят скромную, незатейливую медаль «За отвагу». Ею награждали бойца только за конкретное, за личное мужество, за твердость характера и ратную смекалку. Причем проявление этих качеств происходило всегда в обостренных, часто критических ситуациях, лицом к лицу с умелым и беспощадным врагом.
Так вот, Николай Третьяков «схлопотал» эту медаль, первую свою по-настоящему боевую награду, осенью 1943 года при взятии города Невеля, что неподалеку от Великих Лук. В те дни сражался он своим противотанковым ружьем в составе стрелкового батальона, куда попал после госпиталя, и пробыл с тех пор в пехоте примерно полгода. А те три ступеньки солдатской Славы, по которым он неуклонно потом поднимался, пришлись уже на последний период войны, когда он вновь был в артиллерии и командовал орудийным расчетом 76-миллиметровой пушки. Орденом Славы ill степени был он награжден за личное мужество в боях в районе Риги в 1944 году. Вторую Славу вручили ему весной 1945 г. за беспримерную стойкость под местечком Хасендорф на территории Германии. Ну, а орден Славы первой, высшей степени заслужил он вместе с героическим своим орудийным расчетом, треть из которого погибла, в штурмовом сражении за Берлин. Сюда старшина Третьяков вошел в составе второй батареи 163-го истребительно-противотанкового полка 3-й ударной армии Первого Белорусского фронта, которым командовал Г. К. Жуков. К созвездию трех орденов Славы в конце войны на груди фронтовика добавились еще две весомые медали — «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина». Позднее, уже в мирное время, присоединились к ним орден Отечественной войны первой степени и ряд юбилейных воинских медалей. И потекли за последними залпами войны долгие мирные десятилетия, три из которых отдал Николай Спиридонович родному Новотрубному заводу, который и проводил его на пенсию. И росло, набиралось сил в семейном гнезде Третьяковых молодое поколение, три сына — Геннадий, Виктор и Юрий. Все они и сейчас живут у нас в городе. Сегодня у старого фронтовика четыре внука, две внучки и двухлетний правнук Сашка. Говоря воинским языком, пополнение хорошее. А самому Николаю Спиридоновичу уже 76 лет.
— Я втройне благодарен судьбе, -говорит он. — Потому что вышел, хоть и с двумя ранениями, но живым из того фронтового пекла, где навсегда остались сотни однополчан. Потому что дожил до светлого полувекового юбилея нашей Великой Победы. Потому что нынче именно мне оказали честь представлять бывших фронтовиков-первоуральцев на торжественном юбилейном параде в Москве на Красной площади...
Вот об этом-то, о том, как все это происходило в майские дни в Москве, о личных впечатлениях от столичных юбилейных торжеств и расспрашивал я старого фронтовика недавно после того, как он возвратился домой, — в его квартире на бульваре Юности.
— Николай Спиридонович, сколько вместе с вами уральцев-фронтовиков участвовало в московском параде Победы?
— Из Уральского военного округа -а в него входят Челябинск, Курган, Тюмень и Екатеринбург — на параде было представлено 28 уральцев. Причем 21 из них были из нашей области.
Первого мая все будущие участники парада были приглашены в областной центр. Здесь в Доме офицеров провели общий сбор, наподобие некоего совещания-инструктажа, которое провел с нами один из генералов. Подарили каждому из нас новую, с иголочки, парадную офицерскую форму. Тех, кто живет в самом Екатеринбурге, распустили на ночь по домам. А мы, остальные, переночевали в недалекой воинской части: тут и поужинали, и на другой день позавтракали. После завтрака доставили нас на железнодорожный вокзал. И в полдевятого утра 2 мая мы отправились в путь на фирменном поезде «Урал».
— Как встретила вас Москва: цветами, улыбками, барабанным боем?
— Ну, ехали-то сюда ведь с разных концов страны, даже из бывших наших братских республик. Так что барабанного боя для всех, вероятно, не хватило... Встретили нас спокойно, без всякой помпы. Сразу на Казанском вокзале усадили в специально поданные автобусы. И повезли нас в клинический центральный санаторий Министерства обороны — «Марфино». Это в 45 километрах от Москвы. Раньше когда-то стояли здесь усадьбы крупных царских сановников с известными историческими фамилиями -Голицыных, Салтыковых, Паниных. Зеркальные воды. Тишь. Лесное обрамление. В общем, красота и покой: душа отдыхает. Вот тут и была наша постоянная резиденция во все гостевые дни. Здесь располагалось 500 будущих участников парада -бывших фронтовиков. В уютных палатах жило нас по два человека.
— Ну и сразу взяли вас в подготовительный к параду строевой оборот? Или дали погулять по матушке-Москве?
— В столицу-то мы приехали поездом 3 мая. И вот весь этот день мы просто отдыхали в «Марфино». А на следующий день стали готовиться. В строю должны были вначале идти Герои Советского Союза, за ними -женщины-фронтовички, потом — кавалеры ордена Славы и прочие участники. Немного позанимались построениями, ознакомились, кто в ка¬кой шеренге идет, чей локоть рядом чувствует, потренировались строевым шагом... Где-то шестого или седьмого мая всех нас в 20 автобусах повезли на Красную площадь, где в этот день прошла генеральная репетиция парада. Все уже тут было на полном серьезе. И техника, и войска, и наши сводные батальоны ветеранов, чеканившие шаг по брусчатке площади. И генерал армии Говоров рапортовал маршалу Куликову о готовности к проведению парада.
Мое место было в четвертой шеренге. Интересный штрих: строили-то нас строго по ранжиру, как и принято при парадах. Так вот, несмотря на приличный все еще рост — 178 сантиметров, — я в своей шеренге оказался оттертым аж на четвертое место от нашего правофлангового. Стало быть, рост у него был близко к двум метрам! Это на склоне-то лет! Вот какая старая гвардия шла на параде в рядах ветеранов. Представьте, какими орлами смотрелись эти бойцы в молодые свои годы!.. А длилась генеральная репетиция часа, наверное, полтора-два.
— Какими-то встречами, культурными мероприятиями, экскурсиями попотчевала вас столица? Времени до парада ведь еще оставалось много...
— А как же! Шестого мая, например, мы были приглашены в Кремлевский дворец на торжественное собрание, посвященное 50-летию Великой Победы. Вместе с нами в зале были и воины Московского гарнизона, офицерский корпус, курсанты высших военных училищ. Краткий доклад сделал министр обороны П. Грачев, за ним выступило еще четыре оратора. А потом был концерт. Седьмого мая мы были на большом праздничном представлении, посвященном юбилею, в Центральном Доме Армии. Здесь были заняты лучшие артистические силы. Концерт шел очень долго и доставил громадное удовольствие. Все тут было: и стихи, и песни, и хоры, и пляски. Особенно воспринимались ветеранами мелодии тех дальних и столь памятных для нас фронтовых лет... А вот восьмого мая мы уже никуда из своего «Марфино» не отлучались: готовили себя и внешне, и внутренне к юбилейному параду. Чтобы, как говорится, не ударить в грязь лицом.
— Ну-ка теперь о самом дне 9-го Мая. Как он там начинался и как закончился?
— Этот незабываемый для всех нас, ветеранов, день отпечатался в памяти, как цветной фотоснимок: так все было ярко и празднично. Поднялись по-солдатски — в шесть утра. Позавтракали и — по автобусам, прямо к Красной площади. Здесь, на подходах к ней, началось построение. Нашими ветеранскими батальонами командовал тоже в годах уже генерал, из нашей же братии — бывших фронтовиков. И вот — куранты. Ровно девять часов утра. Замерли, как натянутая струна, парадные колонны. Выехали из Кремля сверкающие, открытые две легковые автомашины — генерала армии Говорова, командующего парадом, и маршала-фронтовика Куликова, принимающего парад. Отдан соответствующий рапорт о готовности; оба военачальника медленно объезжают замершие войска, здороваются с ними. Дружно звучат ответы и мощное «Ура!»
А через несколько минут древнюю брусчатку Красной площади уже припечатывали идущие по ней парадным строем тысячи старых и молодых воинов, за которыми двинулась техника. И сам я в этом торжественном строю словно бы помолодел лет на тридцать, и настрой был такой, что прошагал бы, чеканя шаг, еще не один километр... В общем, здорово это все было! И блеск солнца, и блеск орденских наград, и зовущие звуки оркестров!.. Шли в ветеранских шеренгах и фронтовики, приехавшие из других республик — Казахстана, Молдавии, Узбекистана... То есть тот народ, что когда-то, не делясь на национальности, единой стеной преградил дорогу Гитлеру и положил его на обе лопатки... А обочины площади, да и вся Москва в тот день, были запружены праздничным людом, репортерами, многочисленными гостями столицы.
После окончания парада автобусы повезли нас на Поклонную гору, где тоже вершилось юбилейное торжество. Там мы уже в строю не шли, а смотрели прохождение войск и техники, как гости. Глядели на могучую воинскую технику, и некоторые горько усмехались, вспоминая, что в 41-м году мы встречали врага устаревшей дедовской винтовкой-трехлинейкой да бутылкой с горючим... Впечатление было огромное.
Ну, а теперь надо, наверное, сказать, что я оказался одним из четырех уральских ветеранов-фронтовиков, которым были вручены именные приглашения на торжественный праздничный прием к президенту Б. Н. Ельцину. До приема оставалось еще два часа, и мы обстоятельно осмотрели всю Поклонную гору, правда, вот в новый музей здесь зайти не довелось: там уже было все расписано поминутно. Неподалеку буйствовал громадный, многотысячный митинг москвичей, но послушать, о чем там говорили, времени уже не оставалось.
В половине шестого вечера мы заняли места в Банкетном зале Кремля, где было расставлено 85 столов — каждый на 12 персон. А всего приглашенных тут было 1000 человек. Перед тем, как подняться сюда, отведали внизу по бокалу легкого вина и совсем настроились на праздничный лад. Сели за столы, и президент поднял первый тост — за Великую нашу Победу... Ну, а потом были и еще тосты, предложенные и американцами, и французами... Столы были уставлены всякой снедью, не обошлось и без черной икры. Были и разные вина, и коньяки. Ну, а мы, уральцы, да еще один башкир с нами предпочли русскую водку. Ею и потчевались. Несколько часов прогостили мы таким образом у президента. И где-то ближе к полуночи автобус доставил нас в «Марфино».
Десятого мая мы отдыхали там целый день, наслаждаясь теплой погодой. А на другое утро отправились в обратный путь — каждый к себе на родину, увозя в душе богатые впечатления...
Остается сказать, что вместе с яркими впечатлениями Николай Спиридонович привез немало юбилейных сувениров. В «Марфино» каждому из ветеранов — участников парада вручили очень красивые наручные часы марки «Полет» — с золоченым корпусом и гравировкой, и по 100 тысяч рублей. В числе сувениров — роман М. Шолохова «Они сражались за Родину», изящный фотоальбом «Москва и Победа», комплект цветных карт-схем «Великая Отечественная война 1941-1945 годов», именная грамота от Министерства обороны России и т. д.
— Как чувствуете себя, Николай Спиридонович? — спросил я его напоследок. — Сегодня настрой-то нормальный? — Да все вроде бы по-хорошему. Здоровье не то, конечно. Особенно зрение садится: старое ранение сказывается. А так — все, как надо. Живу. Дышу. Пенсия у меня достаточная. Крыша над головой есть. Кстати, хочу от души поблагодарить генерального директора новотрубников Вениамина Николаевича Дуева, его коммунальную службу за то, что недавно сделали у меня в квартире бесплатный ремонт... Внуки растут. Солнце светит. Что еще надо человеку?..
Вел интервью А. Бушманов («ВП» от 30.05.95 г.)