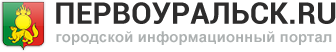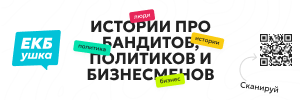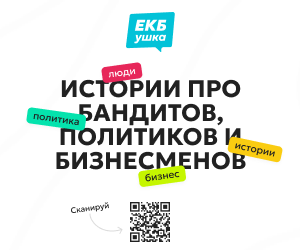Звание почетного гражданина присвоено в 15 июля 1999 г.
В суде смеются редко. Порой кажется, что и стены всеми своими норами впитали боль, гнев, ненависть, злость, месть — продукты не самых благородных страстей. Это Фемиду легко представить с закрытыми глазами, а судья — отнюдь не божество, он и в мантии всего лишь человек, которого эти стены отравляют — день за днем, час за часом. Сколько лет отпущено, чтобы чаша весов не утяжелялась тайными движениями судейской души? Практикующие судьи говорят по-разному: нисколько, семь, десять- двенадцать максимум.
Воробьев в суде уже тридцать пять. И ему я этот вопрос тоже задала. И он ответил не сразу и не в лоб. Он вспомнил свое первое самостоятельное дело, когда сельский клуб был забит до отказа: судили убийцу. Эмоций вокруг хоть отбавляй: один другого «приговорил» чекушкой — за каждым родня, друзья, соседи, которые знают много такого, чего к делу не пришьешь. Тогда он лишил подсудимого десяти лет свободы.
— Много или мало? Это ведь не судья казнит или милует, это закон. Его дают нам в руки готовым, только применяй грамотно, справедливо.
— Справедливость, Иван Григорьевич, категория неоднозначная. Ни один человек не согласится с тем, будто его покарали справедливо, все мы внутренне защищаемся, ищем лазейку для самооправдания. Люди идут в газету и жалуются на суд, а точнее, на вердикт суда — особенно по гражданским делам.
— Не так все просто. Как определить степень вины? Есть совершенное зло, есть раскаяние, есть обстоятельства преступления. Выслушиваешь обвинение и защиту, обвиняемого и свидетелей и выносишь приговор. Но приговор должен быть понят и принят, прежде всего, самим осужденным. Так надо повести процесс — это из области профессионализма. Гражданский спор — нечто иное, проигравшая сторона всегда в обиде. Хотите случай?
Две подруги, одна другой дает доллары в долг, а тут на тебе — августовский кризис. Долг в момент возрастает многократно, платить нечем. «Ах так, ставлю «на счетчик». Договориться не могут, идут в суд. Брала? Брала. Расписку давала без принуждения? По доброй воле. Тогда верни все, что обязалась. До нитки разденься, продай имущество, день и ночь работай, но верни. Это не судья говорит, это закон. По-человечески можно посоветовать: вы уж разберитесь как-нибудь сами, одна в убытке, другая в убытке, но дружба, может быть, дороже. А у судьи без вариантов: пусть погибнет Рим, но восторжествует юстиция.
...Жил-был земский врач. За заслуги перед медициной получил дворянское звание и землю в Башкирии, привез крепостных курских крестьян — родились деревеньки, одна из которых так и назвалась Баскаковка. К Воробьеву все это имеет отношение лишь в той степени, что некогда именно там скрестились две ветви — мещанская и крестьянская, а потом появился и он, шестой и самый младший в семье — сынок. Многие ли из нас столь досконально знают, какого они рода-племени?
Отец, богатый церковно-приходским образованием, решился все же увезти семью с насиженных предками мест поближе к цивилизации, на промышленную стройку Урала. Выпал поселок с магазинами, мощеной дорогой, тротуарами и казенным жильем. Отец, мать, первенец Федор (ставший потом Героем Соцтруда) пошли на завод.
— Тогда для нас было диво: сквер за резной оградой, шикарные коттеджи, где жили большие начальники. Англичане привезли с собой не только название заводу, Динас — от местечка в Шотландии, где впервые из кварцита стали делать огнеупорный кирпич. Кто теперь об этом вспоминает? Люди стали жить культурнее, а для нас, пацанов из деревенского захолустья, был почти что рай.
Какая ерунда, что все удобства во дворе барака, зато в мае открывался сквер и по этому поводу устраивалось народное гулянье. В сороковом появились в поселке антифашисты, бежавшие из Испании и Германии. Две немки пришли в школу учить детей немецкому и пению. Так и учили, почти не владея русским, но и перед ними, как перед всяким учителем, мальчишки снимали шапки.
Мир — это вечные качели. Вчера немкам сочувствовали -жертвы, потом была война, и даже речь иноземная стала отвратительна, но с окончанием войны можно было мстительно улюлюкать вслед военно-пленным, до лагеря которых рукой подать. Так и росли. Пошли эшелоны с фронта, их «брали» набегами, пацан без оружия — не пацан. Когда участковый ехал по поселку с криком «сдавайте оружие!», на телегу сыпались пистолеты, винтовки и даже автоматы. Не слишком ли много искушений и впечатлений на одно детство?!
Он вышел из него здоровый и телом, и духом. Техникум, куда взяли без экзаменов за приличный школьный аттестат, уже через месяц, разочаровавшись, поменял на армию. Первый урок неуставных взаимоотношений помнит и до сих пор пересказывает с неизменным... восторгом.
— Я хоть и был уже воздушный стрелок на штурмовике, но по армейским меркам — салага. Прибыл в полк на Дальнем Востоке, где дослуживали ребята, повоевавшие в Корее. Грудь в орденах колесом, сапоги хромовые — элегантные мощные мужики двадцати трех — двадцати четырех лет. В умывальнике «мозолюсь» как-то со своей грязной гимнастеркой, заходит старшина: «Слушай, Воробьев, ведь так не стирают». Засучил рукава: «Смотри» — и... выстирал. Не он мне свои носки и портянки подсунул, как теперь принято. А потому старослужащий в армии был как бог, в полном смысле слова.
Насмотрелся и налетался: аэродром между сопками в Еврейской автономии, белорусский Полоцк, литовский Каунас -и все вместе 826 летных часов и 25 парашютных прыжков. Мог бы и в летчики податься — почетно и денежно. Но, похоже, был к жизни слишком любопытен, а потому вопросов в голове всегда роилось больше, чем ответов. По соседству с военным аэродромом костел. Поехали к ксендзу: для безопасности ночных полетов надо поставить на костел красный фонарь. Получили добро, и быть бы делу с концом, но то, что увидел...
— Как католическая церковь привлекала молодежь: музыка, рукоделие, спортплощадки — и все это при костеле. Мы — комсомольцы, безбожники, можно сказать. На танцах сойдемся — разницы никакой: ни те, ни другие не хуже, не лучше, молодые, веселые.
Он еще толком не знал, чем заполнить дальнейшую жизнь, но интуитивно чувствовал, что и небо — не его участь. Уже отслужив, после двух лет работы на Динасе облюбовал профессию на всю оставшуюся жизнь. Она изначально требовала чистой родословной. Шерстил партийный райком, потом обком — юридический институт тебе не «шухры-мухры». Родственники не подкачали, собственная короткая биография тоже не стала стопором, но в первый заход конкурс не прошел, пришлось еще год над книжками покорпеть.
Может, и это к добру?! Потому что угадал Воробьев в студенты как раз на хрущевскую оттепель — а это не только молодежные кафе и клубы, куда можно было прийти в клетчатом пиджаке и стильных ботинках на толстой подошве, не только Рождественский и Евтушенко, которые «писали, как дышали». То, что заложило это время, дав короткий глоток свободы, другое время уже потом не убило.
В «застойные» годы Воробьев умудрился оправдать невиновного — уже дважды судимого, обвиняемого в изнасиловании. Семь с половиной месяцев под стражей, человек и сам на себе крест поставил. Судья поступил не по правилам.
При Никите Сергеевиче ввели для будущих юристов западный стандарт, год для образования добавили, стали преподавать латынь, римское право, речи на суде, иностранный, да так, что после института в переводчиках мы не нуждались. И любой журнал можно было выписать и читать.
Из Монтеня: кто ведет под уздцы свою лошадь, тому идти пешком — одно удовольствие. Воробьев отправился по «профессии» пешком, не спеша, соображая, что образование западного образца — еще не все. Повезло, на последней практике довелось участвовать в гражданском процессе: делили наследство знаменитого Дерсу-Узала — сын от первого брака, дочь от второго. Ее представляло Русское Географическое Общество. Адвокаты — высочайшие профессионалы. Те, кто в себе не уверен, обычно «тянут резину», у этих все заранее было просчитано, все документы наготове.
— А все равно удалось замирить родственничков.
— Радуетесь, Иван Григорьевич. Но, бьюсь об заклад, поводов для положительных эмоций у судьи немного. Этих замирили, а скольких нет. Копаться в человеческих пороках — занятие пресквернейшее. Скажите, когда человека на смерть осуждаешь, надолго пропадает аппетит, хочется ли пошептаться с женой, поиграть с ребенком?
— Я на смерть никого не отправлял, такие дела городские суды не рассматривают. Но не в этом суть. Иногда и на год лишить человека свободы трудно. Семнадцатилетний мальчик — инструктор по спорту и девочка 14 лет из старшего отряда пионерского лагеря встречаются. Однажды ночью в палатке их застает дворничиха, момент довольно щекотливый. Наутро это событие обсуждается на линейке, неузнанную девчонку ищут, и вот она, под страхом наказания подругами выданная, не без давления воспитателей и родителей пишет заявление о попытке изнасилования. Дело в суде. «Как ты к нему относишься?» — спрашиваю «потерпевшую». Отвечает: «Люблю». Мы сочли возможным наказать мальчика условно. И дети, и родители рады, что все обошлось. Не удовлетворен прокурор, по его протесту дело снова в суде, и другой состав суда отправляет парня за решетку.
Не знаю, как сложилась судьба «жертвы» и «насильника», видят ли кошмарные сны дворничиха и педагоги, как чувствует себя прокурор, но мне до сих пор от этого плохо. Нельзя же годами не есть, с женой не разговаривать, на детей рычать. Человек знает, на что идет, и учится отделять работу от личной жизни. Хотя вы правы, бывает после процесса неимоверно тяжело. Я пришел в суд зрелым человеком, под тридцать лет. Поэтому не было особых проблем. Ну что поделаешь, если на каждую тысячу нормальных людей всегда есть девять-десять мерзавцев.
— Так уж и всегда.
— Да, именно так — и в библейские времена, и при развитом социализме, и при капитализме. Природа что ли распорядилась... Почитайте библию с пристрастием — и там мерзавцев обнаружите.
— В той же библии сказано: не судите да не судимы будете. — Ну, это про житейское, про пересуды, сплетни.
— Тогда я переиначу вопрос и задам его по-грибоедовски: а судьи кто?
— Интересный вопрос. Есть профессиональный кодекс чести, он прописан в законе и, кстати, повторяет те же известные библейские заповеди. Так что решай для себя: можешь их соблюсти — будешь судьей.
— Так разве можно всюду соломку подстелить? Банальная ситуация: разлюбил жену, полюбил другую...
— Разлюбил, полюбил... Если не можешь уладить все добром, лучше уходить с работы. Доведешь до скандала — тебя «уйдут». Случаев таких немало. Ребенок серьезно набедокурил — если ты собственного не воспитал, как других судить?
— А ваше сердце от всех этих табу, наложенных кодексом, никогда не рвалось?
— А вот и не рвалось, — смеется Воробьев. — Мне в рамках морали не тесно.
Могла бы и не спрашивать, если б не удивлялась: столько лет живут под одной крышей две незаурядные личности. В прокурорских кругах у Клавдии Яковлевны Воробьевой (ушла на пенсию с должности старшего помощника прокурора) репутация человека бескомпромиссного, даже немного жесткого. Когда сталкиваются дома прокурор и судья... — Да не сталкиваются. Я дома не судья, она не прокурор. Она не спорит, я готов уступить. На принцип можно идти в чем-то очень важном, а по пустякам... Характер у жены, действительно, особенный. Когда мы познакомились, я был студентом, она фельдшером. Молчком подготовилась в юридический, экзамены сдала, приходит на свидание: поздравь, я студентка. Так она всю жизнь будто мне доказывала, что хоть и при муже, но личность самостоятельная.
Вот ведь провинциальная скромность: первоуральские юристы идут далеко, поднимаются высоко, а мы об этом помалкиваем. Геннадий Александрович Жилин — член Конституционного суда России. Однажды в бытность обыкновенным судьей он не мог огласить приговор: враз пропал голос. Не «на эшафот» человека отправлял, но прямо в зале суда должны были взять осужденного под стражу. Брат его Николай Александрович заседает в Уставном суде области.
Лишь единицы в городе знают, что Воробьев — заслуженный юрист России, а ведь уже больше двадцати лет назад звание присвоено. Но на двери приемной обычная табличка: «Председатель городского суда» — без всяких там регалий. Три срока подряд он в областной квалификационной коллегии судей — ну нет больше такого случая в нашей губернии. На все три съезда судей России был делегирован. Конечно, вышестоящий начальник всегда в состоянии кому-то порадеть, так ведь теперь и в суде в этом смысле демократия: избирается Воробьев, как и другие, тайным голосованием.
Есть в области негласный судейский рейтинг. По нашей информации, Иван Григорьевич в первой пятерке. Но это для него — не тема.
— Может, это теперь непопулярно звучит, а смертную казнь на переходный период следовало сохранить. Конечно, понимаю, в определенной мере надо блюсти авторитет России в международном сообществе. Но нельзя отказываться от всего, что своему обществу пока необходимо, как горькое лекарство. В США в 38 штатах казнят. А у нас серийный убийца — своего рода профессия, иногда ее выбирают сознательно и деньги неплохие получают. — Око за око?
— Нормальное возмездие за содеянное.
— Иван Григорьевич, что мы все о серьезном? Вы детективы читаете?
— Плююсь, но читаю. Не спрашивайте почему, не знаю.
Л. Милявская. «Вечерний Первоуральск» от 29 июня 1999 г.